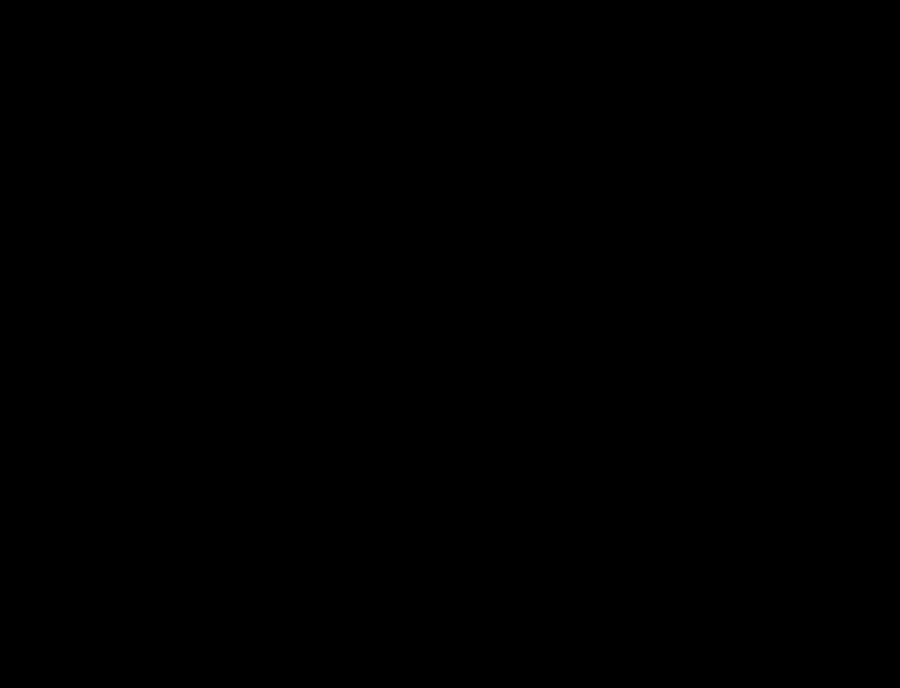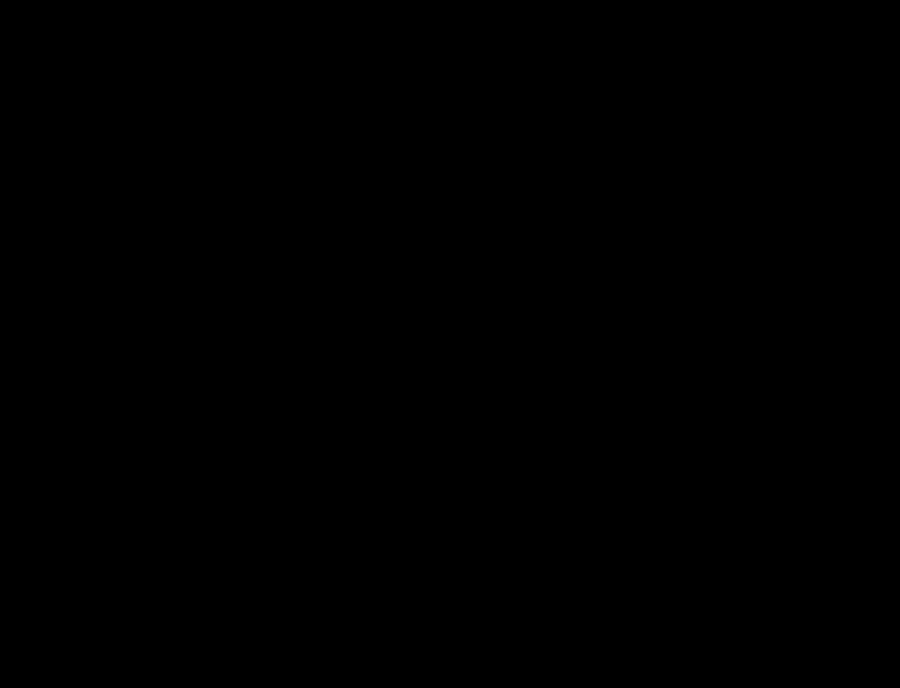"Я столкнулась с женщинами конвоирами, с которыми по жестокости не сравнятся мужчины конвоиры"
Анна Ворошева – успешная бизнесвумен из Мариуполя, которая с начала войны бросила свои силы и средства для оказания помощи местным жителям. После того как выехала из города, возила для мариупольцев гуманитарную помощь и эвакуировала желающих выехать, в один из таких рейсов была схвачена российской армией, после чего для женщины начались 100 дней плена, во время которых она испытала на себе неожиданную гуманность, безразличие и необъяснимую жестокость.
В этот день… В этот день у меня был заведен будильник, я хотела наконец-то выспаться, потому что накануне я делала… переформатировала свой бизнес. Я собиралась уезжать на некоторое время и оставляла подопечных под свою работу. У меня был авиабилет, мне нужно было в этот день проснуться, собрать чемодан и сесть в поезд Мариуполь – Киев. Но проснулась я гораздо раньше от телефонного звонка своей дочери, которая сказала:
«Мама, я собираю вещи в бомбоубежище. Я очень волнуюсь, подскажи мене, что я должна с собой взять? Что самое важное?»
– А где дочь?
Дочь была на Салтовке,города Харькова.
– Салтовке?
Да, сначала я просто положила трубку, потому что я подумала, что я еще сплю. Потом я перезваниваю, говорю: «Скажи еще раз, потому что я не осознаю». Ну собралась, подсказала ей. Это же был февраль, холодина, Харьков всегда намного холоднее, чем Мариуполь. Теплые вещи – то, то, то и бегом. Она говорит: «У меня есть еще 10 минут». Я говорю: «Тогда помой голову, потому что у тебя очень длинные волосы, это неизвестно, что будет происходить».
– Женщины.
Это просто женщины, да. Вот она это сделала, и на меня напал ступор, как на многих из мариупольчан. Я просто стала делать, начала собираться автоматически, и я автоматически еду в свой магазин. То есть тело меня несет туда, где последний здравый смысл. Естественно, есть в городе мама.
– Насколько далеко вы живете?
Я живу возле «Савоны» – там, где «Терраспорт», рядышком абсолютно. Вот и я еду, еще ходит общественный транспорт.
Мозг цепляется за реальность, мобильная связь есть, транспорт ходит. Ну в принципе, может быть, это неправда? Может быть, это будет по-другому? И вот первые сутки я… я приезжаю туда, везде пустынно, уже начинается.
Мы понимаем, что кто-то выехал уже ночью. Уже кто-то стоит на границе, киевляне стоят на границе с Польшей. Вот, и мы начинаем пытаться собраться с мыслями, что нам делать. Понятно, что нужно уезжать. В принципе, у меня есть авиаперелет на другой континент, у меня проплачено. Мне нужно взять маму, сесть в свою машину и выехать на безопасную территорию.
- Вы живете с мамой, да?
Мама жила со мной в одном городе, мы в разных квартирах жили. Она жила очень рядом, напротив моего магазина, это абсолютно пешая ходьба. Мама еще собиралась сходить на тренировку в спорткомплекс.
- Ну какая молодец!
Да, и она говорит: «Я ничего не знаю, я пошла на тренировку, у меня сегодня пилатес». Потом она мне звонит и говорит: «Ты, знаешь почему-то там все закрыто». Я говорю: «Мама, потому что кое-что происходит». Вот, мне пришло как бы сообщение от авиакомпании, что рейс отменен. Потому, что вылет был из Киева, вылет был через Амстердам перелет. Выезд отменен, у меня были некоторые знакомые, которые мне пытаются сообщить, что есть «Халабуда» (у нас центр, который помогает людям). Есть и еще что-то. Пока мой мозг меня и мои ноги туда не ведут, я пытаюсь здесь по месту возле мамы крутиться, потому что там в силу возраста – 70 лет. Ну захватывает эта эмоциональная волна, я одна из подъезда, люди, много пожилых людей, которые меня знают как деятельную, как смелую, как организационную, организованную.
- И вы взяли на себя ответственность?
И я взяла, ну то, что я могла в моих силах, в моем магазине. Я иду снова на склад на свой, пытаюсь распечатать все коробки, которые я сложила и оттуда изымаю свечи, которые были в ассортименте моего магазина, что является на данный момент стратегически важным продуктом, одноразовая посуда. Я это все изымаю, вытаскиваю. Это труд физический, это огромное помещение – 60 «квадратов», несколько рядов. Ну тот, кто знает мой магазин, знает, что это объем, вот. И я пытаюсь это оттуда, значит, каким-то образом… И сам подвал магазина может служить убежищем. Несколько дней проходит, начинаются перебои с водой.
28-го выключают газ. Свет еще раньше, я не помню, 27–28 света не стало. Все уже на последних зарядках и понимают, что нужно созвониться, самое важное – созвониться.
Многие поняли, что нужно выписать номера телефонов из телефонов, потому что нужно, чтобы была какая-то справочная. Конечно, справочная база, чтобы куда-то… если мы выберемся. И вот эти вопросы выживания, они тоже перекрыли логику выезда. Лично для меня, я не могла уехать как бы внутреннее такое разрешение, если дочь еще в Харькове, то мне нужно знать, как она, где она. И дальше вместе. То есть просто взять и уехать заграницу, оставить ребенка в зоне боевых действий и… Изначально Харьков очень же мощно обстреливался. К нам это чуть позже пришло, но у них это самое страшное уже было с самого начала. И слышать эти… ну там был свет еще долго. Я получала эти ее сообщения, это было очень, ну как бы, тревожно, вот. Потом наступила последняя такая ночь февраля, когда уже окончательно пропал газ.
1–2-го последние какие-то связи еще пробивались, и я успевала наговаривать сообщения сестре, которая была в Одессе, о том, чтобы она эвакуировалась и нас не ждала, мы справимся. Дочери – чтоб в любом случае, пожалуйста.
И это было ночью, она мне отзванивается и говорит: «Мама, я здесь уже остаюсь одна девушка и очень много мужчин. Я уже просто боюсь быть в этом бомбоубежище. Что мне делать?
Есть такси, которое едет в одну сторону на ж/д вокзал за 3000 гривен, но мы не знаем, доезжают эти люди до ж/д вокзала или нет. Есть люди, которые будут ехать в Россию, но я боюсь в ту сторону ехать». Я говорю: «Не смей, это не обсуждается, только сюда. Выходи, иди если видишь наших военных либо людей, обращайся за помощью и пробирайся пешком». Это была моя последняя связь с дочерью с 1 на 2 марта в эту ночь. Ну как, эта последняя ночь, вот. На следующий день мы перебираемся в подвал моего магазина, вот и мы сталкиваемся с атаками людей, которые пытаются взломать вот это все. Уже пошли люди, начали искать еду, кров, убежище. Ну все, что вообще… Ну конечно, среди этих людей были люди, которые просто искали, вот… Мы сталкиваемся с этим фактом и где-то в районе 5 марта благополучно мой склад вскрывает группа в районе 60 человек цыган с детьми. Они открыли это, как медвежатники, просто они не взломали насильно, а именно открыли, вот зашли. Я зашла с той стороны, говорю: «Здравствуйте, это я, это мое».
- Что будете покупать?
Да, что будете покупать? Они: «Ой, хозяйка, это стоп-стоп, говорит, хозяйка идет. Они, значит так на коридор, но, когда я зашла, там порядка 60 кв. м подвал, по всему периметру подвала стеллажи метра 20 шириной в четыре яруса.
- То есть на них можно лежать?
И вот на всех, когда я захожу, этих стеллажах уже ни одной моей коробки нету, хотя они были все заняты товаром. Они перемещены в какое-то другое помещение, но это 30% от того, что там было, и на всех этих полках сидят и вот так ногами колыхают где-то ребятня 12-18, много молодых ребят было 21-22, ну абсолютно все юное поколение. Женщины сделали себе большой и огромный помост и одновременно, когда я захожу и говорю здравствуйте, это я, одновременно пеленается пятеро детей. Я опускаю голову, падает свет, и вот тут, как рыбки в аквариуме, вокруг меня дети. Они говорят: «Можно мы останемся?» Я: «Ну конечно, все это война, это война».
- То есть ваш магазин спас жизнь целому цыганскому табору, да?
Да. Я говорю: «Только, говорю, давайте так аккуратно, это жилой дом». На тот момент он был еще жилым. Вы ничего, чтоб никаких костров, никаких ничего, и меня как бы это все… это дело всей моей жизни. Я с 20 лет занимаюсь этим, и я из зернышка вырастила это поле, это все мое, кровью и потом… Все, кто меня знает, как бы могут подтвердить эти слова. Вот и мне кровно пообещали, ну цыгане остались цыганами, вот и они 11 марта, я наблюдала как выстроился караван из машин, все это загрузилось, и они тронулись, помахав мне ручной. Но на их смену пришли тут же люди, следующие. И я поняла, что у этого помещения вот такая судьба будет. Да, потому что там бетонный цоколь вкопан полностью в землю, оно большое, там была уборная, там был запас воды, свечей, они это использовали. Я тем временем, значит, когда я поняла, что машины нет, дочь в Харькове. Я встречаю в городе, пытаюсь найти. Никакой связи нет, вот все, что я сейчас, вот в эти дни слышала на территории. Ну я не знаю, как бы не хочу быть некорректной, но меня как мариупольчанку оскорбляет на самом деле, когда я слышу эти новости о том, что устраивалась какая-то помощь, еще что-то еще.
Люди, алло! Мы не знали. Вы должны были осознавать, что такое значит нет связи вообще. Вообще нет связи, но при этом никто не… как бы ни листовок никаких, не расклейки никакой, то есть то, что было возможно организовать в то время, это не происходило.
Слухи из уст в уста передавалось о том, что возле Драмтеатра собирают какую-то колонну, что кто-то будет куда-то ехать. Все люди со всего города пешком идут к определенному времени, кто-то с Левого берега, кто-то со Слободки, кто-то из Черемушек. Я жила в районе трех остановок. Мне не 70 лет, я могла себе позволить пробежаться туда и узнать, что нет ничего, сегодня ничего нет. Никто ничего не знает. Есть какие-то машины, кто-то куда-то едет, ты за ними наблюдаешь. Ну и что это значит, ты не понимаешь, притом что отношу себя к людям сообразительным и так далее.
В одном из таких забегов в поисках информации я встречаю своих знакомых людей, и мы кооперируемся, мы подселяемся, меня просят (это знакомая девушка), она просит меня помочь переместить ее маму, у которой болезнь Паркинсона. Маму перемещают в машину, мы просим мужчин, и мы переезжаем, я помогаю ей переехать в стоматологию, которая по адресу Металлургов 95, там клиника ортодонтическая. Там тоже люди и сами хозяева этой клиники, их знакомые, бухгалтера, их семьи. Они все там собрались, несли какие-то запасы еды и пытаются там выживать без света; еда у них есть, света нет.
Но я прихожу как девушка, у которой есть много свечей. Озаряю их жизни светом, мы дружим, ну сплачиваемся все вместе и стоит вопрос о специальном. Есть люди, которые нуждаются, например, в медицинской помощи, и есть категория людей в мирное время, которые живут только при постоянном употреблении медикаментов, медикаментозно зависимые заболевания: Паркинсон, Альцгеймер, депрессивные состояния относятся к этим категориям. Поэтому встает вопрос о том, что нужно добыть лекарства для этой бабушки, потому что иначе бабушка становится… превращается за сутки в лежачего человека, и мы ничего не сможем.
- Где добыть, как?
Начинается вопрос: где добыть? И я начинаю это искать, спрашивать, выходить на контакт. Люди боятся выходить вообще. Ну я поняла, что для меня сбегать за водой там на церковь, еще что-то за счет физики, за счет ну как бы вот этого состояния активного хотя бы успокаивается мозг, и ты можешь дальше оставаться психически адекватным, здоровым, принадлежать самому себе. И я вспоминаю про наметки друзей, которые говорили: «Обратись в «Халабуду». Я иду туда. Дмитрий Чечера руководит этим проектом. Я остаюсь на этом складе и помогаю работать, в этот же день быстро я нашла это лекарство, доставила.
Люди узнали о том, что я та девушка, которая достала, что-то невероятное, и ко мне со всех сторон начинают стекаться люди.
Они знают, что я выхожу в 8 утра, и они ко мне приходят, потому что есть женщины, которые гормонально зависимы, есть женщины, которые принимали постоянно противозачаточные средства как терапию гормональную.
- Помните, как у Кинга, в «Побег из Шоушенка». Самый важный человек был это тот, который может достать все. Вы стали такой?
Да. В какой-то момент да, я осознала эту роль. Вот, я сказала всем, кому надо, буду здесь со скольких до стольких. Вот, эти особенно очень важные женские вещи, очень важные детские вещи, инсулин. Я хотя бы направляла людей, где это есть надежда получить. Вот, также эти с Альцгеймером женщины… мы как бы искали, и это все вручали людям.
- Были у вас моменты, когда вы в процессе перемещения между всеми этими локациями попадали под обстрелы?
Да, в какой-то момент. Первый раз я попала, когда мы возвращались от Новоселовской церкви, там был колодец, где комендантский час заканчивался в 6 утра, но мы должны были быть там в 5.
- Почему?
Потому что очередь выстраивалась неимоверная, здесь можно было целый день быть занятым тем, что ты стоишь в очереди, а у меня было много дел. Были такие же соседи мужчины, которые не боялись нарушать комендантский час, и мы на машине проезжали, и были… У нас уже было место, где мы знали дом, в котором хранится ключ. Мы были одни из первых, которые набирали полные баки воды, мужчины ехали на Восточную, доставляли воду людям, а я бежала на «Халабуду».
- На Восточном в марте месяце?
В марте месяце, да.
Я, насколько помню, в марте месяце Левый берег – это обстрелы.
Это февраль. Я вам сейчас скажу… последний раз мужчины были на Восточном под обстрелами, под… по всему этому ужасу на обычных «Сенсах», они ездили туда, везли туда воду и возвращались с людьми. Они всех везли в эту стоматологию и в подвал на 93 Металлургов, 95 Металлургов и 79 – мой подвал с шариками. Где-то числа 9-го либо 10-го машина попала так, что уже пробило бак, и они все еще пытались как-то это зашаманить и все ровно ехать дальше.
- Молодцы.
То есть это был ну такой, вот ни…
- Итак, вы до комендантского часа поехали.
Да, поехали в Новоселовку на дом. Мы взяли воду, и мы спускаемся (мариупольчане знают) по трамвайный путям на машине, возвращаемся на Кирова. То есть мы уже видим магазин «Орбита», который был один из первых обстрелян этот дом, прямо перед нами на вот этом разъезде бахает снаряд. Снаряд, воронка диаметром… то есть мы останавливаемся от куба пыли, мы просто не успели доехать, то есть мы...
- Слава Богу.
Мы – да, буквально, буквально потому, что мы были затарены водой, мы боялись, мы чиркались за этот… и буквально мы не доехали 150 метров, то есть осколки остались перед нами, вот перед нами упали осколки. Это был, наверное, первый день, когда не то что увлекся… Это, наверное, неправильное слово, ты нашел свое место в этом новом мире.
Ты, ну быть полезной – это просто часть меня, а это вот первый раз прилетело, что может не быть, и надо беречься, и быть аккуратней, потому что мы не принесем своей смертью никакой пользы никому.
Это было даже более практическое решение, не то что ты мог умереть, а просто мы тогда бы не довезли воду и баклажки бы потеряли, все бы взорвалось. Вот такая реакция была, настолько работал мозг, совершенно в другом режиме. Мы переехали это аккуратно и доставили обратно свою воду, и мужчины поехали налево и вернулись оттуда. Вот, ну это был первый раз. Второй раз это было, когда я несла из «Халабуды»… это было тоже, наверное, 11 марта. Я принесла рано утром из «Халабуды» заряженные телефоны. Заряженные телефоны… и у нас был договор, что я прихожу вот ровно во столько, чтобы двери в подвал были открыты.
Ну всегда есть в подвале какая-то женщина, которая больше всех боится, либо больше всех боится сквозняка, либо еще одна умная женщина, которая игнорирует стратегические моменты, вот.
И я вхожу. Такой спуск в эту стоматологию, крыльцо низкое, и стучусь в двери и говорю: «Это я, это я, Аня, откройте». И там все-все. И начинается минометный или какой-то обстрел, это я уже со слов людей, когда летают небольшие снаряды и где-то из района Новоселовки, 17 тогда обстреливали, и пролетает это все надо мной. И я вот так сажусь и просто это все иу! ж-ж-ж-… Все, и ты сидишь все… меня кто-то за шкирку из тех же соседей-мужчин, который приехал из тех, кто воду возил, вытаскивает, и меня просто кидает в подвал. Говорит: «Ты что, с ума сошла?» Я говорю: «Я не знаю. Можно двигаться, нельзя двигаться». Тут я хотя бы в бетонных каких-то… Это был второй раз.
Третий раз был, это когда прилетело в 66 школу – авиаудар, и я просто шла по направлению туда, я бежала из «Халабуды», это был мой маршрут. И вот чудом я как бы была намного раньше этого времени там, то есть задолго, за два или три квартала я была там. Вот это, то есть я пришла, сделала эти фотографии себе на память того, что я могла, то есть я была в поле поражения этих обломков летящих. Ну, наверное, эта картинка 66 школы дала мне понять, что нужно это будет, что есть уже… жители, мы.
Мы уже поняли, что если есть одно попадание, то будет постоянно прилетать.
То есть это стратегия обстрелов. Если в 77-й дом по проспекту Металлургов сразу было попадание еще в самом начале, то он так и остался и полностью разбитый, и в него все время продолжало что-то прилетать. И мы понимали, что в этом районе находиться уже очень опасно. Я в полной растерянности, со мной мой чемодан, абсолютно каких-то… Чемодан используется как сумка на колесиках. В нем вот это платье, которое для меня было важно, вывезла.
- Почему это платье для вас так важно?
Это платье я…
- Помимо того, что оно шикарное, ну да. Почему?
Потому что это вишиванка, потому что это наш национальный символ.
Потому что женщины Украины – это в первую очередь красотки, которые всегда, в любых обстоятельствах первое, что они хотят, это привести себя в порядок.
Потому что это платье я долго искала. Есть много в мирное время, когда был праздник вишиванок, я хотела что-то особенное. Я это покупала в Киеве, на Крещатике, и для меня это было ценно. То есть я очень хотела, я себя видела, что когда я выберусь, я выйду в аэропорту и я буду обязательно в этом платье.
- До какого числа вы были в Мариуполе?
Я была до 16 марта, я смогла организовать вывоз, вытащить эту машину разбитую. Вывезти одну машину с людьми из «Халабуды», с работниками еще оставшимися. Семья была, женщины, которые там работали, их матери были рядом с ними. Еще всю ночь, на первую ночь на «Халабуде», собираю лекарства, еще что-то, аптечки, продолжаю делать это дело, вот. И 17 числа, ребята на «Сенсе» приезжают, чтобы забрать меня, и опять же, мою маму, вот. Ну, тут ко мне подходит Оля Новикова и говорит: «Аня, вы случайно… нам нужна женщина, которая водит машину-механику джип». Я говорю: «Да-да, без проблем, я с 14 лет за рулем, с 14-го года за рулем – это уже 17, и именно на механике, поэтому я могу. Говорит: «Пожалуйста, можете вы одна, чтобы нас… мы все… Одна, чтобы только как водитель». Я говорю: «Да, хорошо». И получается, тогда этот «Сенс», который меня привез, за мной приехал, мы в него еще берем людей из города, других гражданских. Вот эта ночь, с 17-го на 18-е, мы ремонтируем машины. Ребята едут на Южный, там все разбомблено. Где трупы, где все, они добывают там пену, они добывают там стекла лобовые, они добывают там масла. И они на велосипедах – вот так два велосипеда параллельно на ремнях – привозят эти стекла. Мы делаем… У меня есть фотографии – мы делаем на пену, садим.
- На монтажную пену?
На монтажную пену Wolksvagen такие распόрочки из пенопласта на герметик, мы пытаемся на герметик посадить. Герметик-10 не засыхает. Я говорю: «Давайте монтажную пену, потому что это...» Да ну, я говорю: «Ну я декоратор. Ребята, на секунду, я украшаю витрины, я знаю, что к чему, какой вес выдерживает». Все с меня смеются, говорят, будет мой последний дизайн-проект. Мы на монтажную пену ставим те стекла, а боковые стекла я делаю из один в один с зазором в миллиметр, я делаю из скотча, с другой стороны.
И у нас получаются такие из скотча окна. Они легкие, они выдерживают вот эту вибрацию, нам не нужно дальше стекла искать, но холодно очень ехать.
Я думаю, может, я запатентую этот способ остекления машин. И вот у нас получается – готова одна машина, готова вторая машина. Мы загружаемся, и нас получается в одной машине вместе с водителем шесть человек, во второй машине вместе с водителем – раз, два, три – пять человек. Нас получается 10 человек, и мы выезжаем на Запорожье. На тот момент из Запорожья… Ой, на Запорожье едут все через Бердянск, по коридору. Нас ребята вывозят полями, мы объезжаем все на свете, и мы попадаем на трассу через Пологи по прямому, как мы ездили в мирное время.
- Вот эту новую, да?
Да, и мы прем по этой дороге. Нас останавливают, ну на 60-ом, кажется, посту мы перестали считать, сколько их, вот. Я сложила вещи определенным образом на обыск. Грязная обувь вперед, женские прокладки, собака, какие-то ну абсолютно непрезентабельные вещи, чтобы когда ты открываешь и хочется ему досматривать, и он брезгливо отходит, все.
Мы спрятали телефоны, мы запаслись едой, мы понимали, что может быть придется в поле ночевать, либо еще что-то, вот.
Ну, мы домчали до Запорожья около щести часов. Дальше мы прошли в «Эпицентр». Мы, конечно, увидели, как встречают людей, как ожидают детей, как люди организовали прием еды, все-все. Конечно, мы растрогались и выдохнули. Начали расселяться. Я начала спрашивать первое, как выезжают люди из Мариуполя. Что-то организовано в данный момент? Потому что я же могу не обладать этой информацией. И как они собираются доносить до людей гражданских вот эти места, которые они здесь считают организованными. Как они, может быть, здесь не в курсе, что… Ну вот, вдруг люди не знают, что у нас нет связи. Поэтому я хотела в этом убедиться. Я поняла, что все в курсе, что у людей нету связи, все знают, что…
- Знали все, да.
Да, знали все, ну тогда очень была озадачена тем, что я понимаю, что у людей, которые внутри города, нет шансов в ближайшее время дождаться кого-то или еще что-то. Меня начинает брать страх, что вообще там люди, вообще как-то смогут выбраться оттуда. И я понимаю, что я буду выезжать за мамой, я ну не… Я переночевала одну ночь, я понимаю, что я… Ну как я буду где-то? Я узнала уже здесь, в Украине, что дочь выбралась. Это отдельная история, как она попала в Роттердам, как она выбиралась из Харькова. Я выдохнула. Остается одна мама, и выезжать из страны, не забрав, своего как бы родителя, ну как бы не знаю… для меня дичь, вот. И я пытаюсь как-то это организовать, используя, как бы мои личные средства и средства тех людей, которые нам донатили, мы покупаем два микроавтобуса 25 марта. Два автобуса «Мерседес-спринтер».
Мы выезжаем на двух спринтерах, и мы выезжаем в город, мы пытаемся пробиться в центр. У нас был свой инсулин – две адресные доставки, люди попросили. Мы одну адресную доставку доставили, на втором адресе не было людей дома, они уже куда-то уехали. И мы понимаем, что мало куда мы можем проехать по городу, что все. Мы вообще, в принципе, на 20-е, на 27-е марта мы были единственной машиной, которая передвигалась по городу просто. У меня масса адресов, которые люди, пока я была в Запорожье, узнавали откуда-то обо мне, скидывали адреса. Я их всех разбила на карточки, расположила по как… по районам города.
И мужчины брали эти адресные доставки и мчались в город в разные районы, кто куда пробьется, хоть кто кого вытащит.
27-го подъехали к Милекинскому блокпосту, но там уже были люди, то ли россияне, то ли кто-то, ну люди в форме «ДНР», скажем так, все эта территория оккупирована. И увидев, открыв машину, увидев бензин, лекарства, еду, автозапчасти (потому что мы каждый раз выезжали ну, полностью как бы технически, чтобы мы были готовы где угодно остановиться), фонарик, зарядки, телефоны, они говорят: «О!» Вот. Пока я вышла из машины, меня завели в палатку для того, чтобы спросить, где я… «Дайте документы». Вот через пять минут я выхожу из машины, машина уже наполовину растаскана, то есть они увидели машину, и предметом интереса был автомобиль, паркетник, вот. И нас оттуда отправили под конвоем в Мангушское РОВД.
- Я так понимаю, с этого начались ваши приключения, да?
Да, может быть так.
- Вас отправили в райотдел?
Да.
- Вот какие у вас мысли были на тот момент? Могли ли вы предположить, что с вами будет?
Нет-нет, я понимала, что, может быть, выяснить. Я понимаю, что я не военная, среди моих друзей военных нет. Я понимаю, что в моем телефоне, на тот момент, ну у каждого, кого задерживают, был когда-то в истории, в Фейсбуке, если зайти и узнать мою фамилию, имя, отчество, пробить, что когда-то делала публикации в 14-ом году. Конечно же, я была не такая, я такая была не одна, и задерживать только на основании этого – что-то…
Я была готова к тому, что у меня заберут деньги. Я была готова к тому, что мне сейчас не отдадут машину. Я была готова к тому, что у меня заберут, то есть с меня снимут золотые украшения или еще что-то. Я к этому, конечно же, морально была готова. Но я не готова была к тому, что мне предстояло.
Мне даже… Я даже в теории не могла представить.
- Вас привели в РОВД?
Нас привели в РОВД и сказали: «Мы сейчас… это будет вам нужно пройти фильтрацию». Вот. Мы ждем очень долго, до вечера. Нас заводят в какую-то комнату, там дактилоскопируют, делают фотографии там в анфас, в профиль, подключаются к нашим телефонам. Все это каким… все это вскрывается, у них есть, где я работала, вся информация уже кто я, что я – все это есть. И есть люди, которые перед нами выходят, и он, вот этот конвоир и говорит: «У меня к нему нет вопросов, значит, все». Вот, а нас выводят после этой процедуры, но у нас с собой были техпаспорта на «Мерседесы». У нас с собой были запасные ключи, мы делали на вот эти спринтера, и мы давали их каждому водителю, и у нас и вот это количество ключей, техпаспортов, становится… Нам начинают говорить о том, что вы те люди, которые зарабатывают на войне, вот. Мы объясняем, что есть переписка, что мы бесплатно, что мы да, мы едем за своими людьми. Но у нас нет ни одного подтверждения людям, что мы там ну какой-то другой информации, то есть неважно, что на самом деле.
Мы им кажемся очень вкусными, интересными с техникой. «А как вы заехали?» – «Через Володарск. Позвоните, мы там вчера были, и все». – «И вас пропустили?» – «Нас пропустили» – «А мы сегодня не выпускаем». И вот это вот такая глумливая манера общения, вот она как началась, так она и сопровождала меня дальше все время, вот. Потом уже ночью уже к нам пришел конвоир, ну то есть нас поселили, посадили. Я в мирное время, я никогда…
Меня Бог миловал, или как правильно, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Но я никогда не была, и я никогда не видела собственными глазами, что такое КПЗ.
Что такие какие-то клетки, знаете, только в кино, как и многие из нас, вот. Вот мы оказываемся в таких же условиях. Единственное, что в Мангуше у нас на грязный диван. Нас было три девочки, с которыми мы потом дальше длинный путь вместе прошли. Все те девочки были военными, все задержаны были, либо были бывшими сотрудниками полиции, либо действующими сотрудниками полиции, либо девушки, которые служили и проживали на территории Мангуша, либо эвакуировались туда. А мужчин было очень много, и они находились… Было две камеры по… Мы вот были на таких вот грязных диванчиках находились, тут же было две камеры. Каждая из них, ну наверное, максимум 4,5–5 квадратных метров. Там находилось по 14 и по 17 человек одновременно. То есть мужчины спали стоя и по очереди.
- То есть у вас еще были условия более-менее?
Да, у девочек был грязный диван, у нас были более-менее как бы условия.
- Сколько вы пробыли в РОВД Мангуша?
Двое суток.
- Были ли допросы, какие-то, были ли?
А, нет, было не было, как бы допрос как таковой был. Не было еды и воды, и это был единственный, как бы скажем, повод людей вытаскивать на общение либо пойти в туалет. И вот за эти там двое суток, за первые сутки я обратилась несколько раз к дежурному за помощью и говорю: «У меня в машине есть кое-что, ну то, что мне нужно как женщине. Отведите меня, пожалуйст,а в машину» Он говорит: «Твоей машины уже нет, детка. Ну, расслабься, ты че? Какая машина? Забудь. Ха-ха! Она уже в фонде республики». Я говорю: «Можно меня в туалет хотя бы вывести?» То есть я выпрашиваюсь в туалет, туалет находится, как он всю жизнь был в Мангуше, в центре. Вот эта яма старая-старинная, заброшенный общественный туалет, это являлось туалетом. И это было ночью. Я выхожу в этот туалет и, естественно, я глазами осматриваю стоянку. Я вижу, что машина еще на тот момент была на стоянке. Я упрашиваю конвоира, чтобы он разрешил зайти. Он, как бы сильно рискуя жизнью своей, соглашается. И я подхожу к машине, и у меня был пакет с едой, у меня был сыра кусок, у меня был с собой хлеб, бутылка молока, то есть это в дороге мы брали то, что не портится, вот. И я это, как бы под видом, что мне нужны прокладки и какие-то вещи, бутылка воды – самое важное, потому что никого не поят.
- Вам не давали ни еды, ни воды?
Ни воды, нет.
- Ни в туалет не выйти?
Нет, это нужно было выпросить. И я как женщина единственная, кто как бы достучался. Вот, мужчин они вообще игнорируют. Мужчины как бы сидят в этой камере, у них там есть то, что по-тюремному, это потом я уже узнала, это называется «дючка», это туалет общественный, вот эта дырка.
Да, вот они там пользуются эти, а воды пить и нам, женщинам, как бы нет, мужчинам нет, нам, женщинам, ни воды, ни еды. И мы могли – женщины – только выпроситься в туалет.
И выйдя на улицу, я выпросилась у него подойти к своей машине, быстро заглядывая, понимая, что машина вообще пустая, ну еда была у меня там под сидением там растыкана, и это быстро-быстро собираю какие-то остатки по машине, беру этот пакет и возвращаюсь в этот наш как бы маленький концлагерь. Я возвращаюсь, конвоиры засыпают, и я начинаю кредитной карточкой резать этот сыр, ломать этот батон.
- Слушай, я видимо не зря вспомнил «Побег из Шоушенка», да?
Да, мы очень часто там тоже вспоминали на всем протяжении все вот эти знаковые фильмы.
- Знаешь, я Кинга вспоминал все дни недели, пока мы были в блокадном Мариуполе. Кинг – это был каждый день?
Да,
- А у вас Кинг – это были…
Да, это часть моей жизни, да. Это моей реальностью стало в какой-то момент.
- Ты резала кредитной карточкой сыр…
Сыр. И я, имея вот эту вот маленькую свободу передвижения, и я ребят вот через эту клетку и каждый по очереди… они смогли покушать хоть что-то. Разделили это молоко, наливали эту водичку и таким образом эти двое суток продержались.
- Жесть. Двое суток в Мангуше. Потом?
Потом к нам в одну последнюю ночь к нам приехали, пришли эти конвоиры и попытались уже отмотать обратно.
- В смысле?
Они начали говорить, что мы разобрали, что вы не эти, но мы уже не можем сделать, что вас тут нет. Но мы не можем вас уже вычеркнуть. Говорит, есть, я попрошу, что приедет ОБОПовец, чтобы вас допросили здесь.
Может получиться здесь, потому что дальше, как он мне говорит, девочка, дальше «страна Мальборо», в которой пропадают люди и все, что у них было, и вас там вряд ли кто-то сможет найти. И он мне это сказал, глядя в глаза, и очень серьезно. Я поняла, что мы попали в беду.
То есть до этого момента я ждала момента, что что-то выяснится. Нас покуражат, покошмарят, заберут что-то, продержат и потом под страхом того, чтобы никто ничего не рассказывал, куда-то мы выйдем в поле. Нет, я поняла, что этого не случится. Приезжает, действительно, приводят ночью к нам (все ночами совершалось), увозят всю часть людей, остаемся только я и Леша. А он говорит: «А этих к нам на Донецк?» Он говорит: « А эти пусть останутся, этих еще не опросили». И нас оставляют. Приходит ОБОПовец, и они начинают между собой разговаривать, и он говорит: «Вы что, не понимаете, уже есть распоряжение – их уже всё». То есть вышел какой-то приказ-указ.
- Насколько я понял, была массовая, скажем так, облава на тех волонтеров, которые вывозят людей, да?
Да, именно вот этот момент, вот эти сутки стали решающими, что вот мы… не можем мы больше, то есть вот до нас выезжали и после нас.
- А именно в этот момент.
А именно в эту временную вилку нас не...
- Вы стали показательным кейсом, скажем так, чтобы люди не пытались.
Да, что бы люди не пытались, абсолютно верно, чтобы люди пропадали.
- А у вас была там беседа с этим ОБОПовцем или…
Это была не… полуофициальная, такая двухминутная встреча, на которой он нам просто объяснил, что он уже не в состоянии сделать то, о чем его просят. И вы поедете, и его же работники говорят: «Ну давай что-то придумаем, хотя бы девочка». Он говорит: «Ты что – говорит – это под таким контролем, что я не возьму это на себя». Пусть едет дальше и, может быть, там те, может быть, там посчитают нужным, отпустят.
И вот этот вот страх, который я видела среди, ну скажем, работников этой среды, которые боятся принять решение, хотя он вправе был его принять. Но перестраховаться, и пусть кто-то другой решает, что ее отпустить, он преследовал меня еще долго-долго тоже.
И нас оттуда, получается, 30-го числа… 29-е это число, нас оттуда вывозят на Докучаевск.
- Из Мангуша вы поехали в Докучаевск?
В РОВД Докучаевска. Там мы с мальчиками расстались. Мальчиков посадили в гаражи, это просто ангар.
- Мне Серега, водитель рассказывал.
Просто гравий насыпанный. А девочек посадили вот в такую же клетку в КПЗ, внутри помещения, только опять у нас не было туалета, нет воды, все тот же 10. И это четыре квадратных метра, где находятся шесть женщин. Ни скамейки, ни тряпки, ну вообще.
- То есть негде даже сесть?
Это вообще просто пол, просто пол и перед тобой решетка на весь вот этот проем, решетка. Ты на виду и все, больше ничего нет.
- Сколько вы там дней пробыли?
Там мы переночевали одну ночь и еще до вечера, и нас 30-го числа вечером вывезли на Донецкий ОБОП.
- Когда вы были в Докучаевске, в этой клетке, допросы, опросы были?
Нет, абсолютно нечего. Нет, тебя просто держат-держат, и все. Потом им дают команду – куда.
- Вас повезли в ОБОП в Донецке, да?
В ОБОП нас везли, нас закинули в микроавтобус, ну какой-то микроавтобус, где без сидений, нас уже садили туда и мальчиков, и девочек. У мужчин у всех – там было много военных – у них связаны руки скотчем. И я знаю, что другие люди ехали еще страшнее. Я была с группой людей, которые ехали более-менее.
- Еще страшнее. Что это значит?
Еще страшнее – уже дальше мы, когда уже знакомились, встречались, встречали девочек в Еленовке, вновь поступивших женщин и мужчин. Ну мужчины, да.
Женщинам надевали мешок на голову, натягивали капюшон на голову, все это скотчевалось скотчем вот так прямо на тебе. Вот так отрывается скотч, руки вот так связывают, полностью перематываются скотчем туго.
Ты можешь ехать 4-5 часов, у тебя синеют руки. Девушек брали с закрытыми глазами, со связанными руками подымали полностью, вот так подымали и вот так закидывали на уже лежащих людей. Женщины ехали, инсценировали, то есть они куражились, заталкивают как будто там трупы –они говорят там. Она говорит: «Что там?». Они говорят: «Ну, трупы. Мы тебя довезем, и все. Бросай». Говорит, трогается машина, и трупы под тобой начинают шевелиться и говорить: «Чуть-чуть, девчата, в сторону, в сторону». Потому что все живые, но все такие связанные, которых точно так же закидывали. Они останавливали на каком-то машину. Шумели, никто ничего не видит, а только ты воспринимаешь на слух. Они открывают двери, резко тормозят и начинают делать автоматные очереди по… ну, как где-то вдалеке. И у них создается впечатление, что сейчас где-то кого-то... Потом еще раз останавливаются – звук льющегося чего-то, запах бензина, возрастающая температура, говорит:
« Мы прощаемся с жизнью, что нас сжигают». Потом ржач стоит, несусветный животный смех, закрывается машина и говорят: «Ну что вы. обделались?»
И двигаются дальше. У многих так. Вот, есть женщины, которые рассказывали о попытках изнасилования, есть женщины, которых били жестоко. Основная масса женщин – нормальное обращение, но есть те (я знаю четыре случая), которые женщины попали вот под такие вот вещи.
- Вас привезли в ОБОП?
Да.
- Что там было?
И там первый раз я услышала слово «пленные», и это было страшно.
- Все эти дни, пока ты была там, у тебя была возможность дать какую-то весточку твоим близким?
Нет.
- Никакой, да?
Нет, связи нигде нет, мы… у нас сразу изымаются телефоны. Единственное, что мне в Мангуше дали, вызвали подписать еще раз опрос. Это после того, как у нас состоялся такой психологический контакт с одним из конвоиров. И он положил вот так мне на стол телефон, и вот так вот стал печатать. Я взяла свой телефон, и у меня появилась возможность. То есть единственное, что у меня было, это что я ехала в ОБОП.
- Кому ты написала?
Я не смогла написать, связи нет. Я смогла только почистить телефон конкретно.
- То есть он помог тебе вычистить?
Да-да, вот это. Это важный момент был во всей этой истории.
- Ну ты думаешь, что что-то бы поменялось?
Да, я думаю. Ну, я поняла в тот момент одну вещь. Нам делали дактилоскопию в каждом месте, куда бы мы ни приезжали. Я поняла, что нет связи, они между собой не разговаривают.
- Нет общей базы, да?
Да, и я понимала то, что было там, сюда не дошло. То, что было здесь, в ОБОП не дошло.
- То, что было в Лас Вегасе, осталось в Лас Вегасе.
И они это не афишируют. Но если наблюдать за всем за этим, то становится понятно, что у них садятся там, у них нет батареек на телефоне, телефон, чтобы...
- У них электричества тоже не было?
Да, там все. Там на тот момент было очень все сложно, именно эти дни, они только все сами настраивали. Я говорю, я поняла, что у меня главное – чтобы сам момент, что я уже с машиной, что я уже без машины. Я просто дальше шла в показание, что я девушка, ехала за мамой и так-так-так. Нас остановили для выяснения обстоятельств. И я… Он мне дал это прочитать, говорит: «Да?» Я говорю: «Да». И я подписала, то есть я дальше ехала.
- Человеколюбие, конечно.
Да, это вот ну и на таких вот единичных крошках, это помогало дальше каким-то образом.
- В ОБОПЕ?
В ОБОП мы приехали, услышала, что пленные – я поняла, что со мной стоят, что я единственный мирный житель. Я эту формулировку услышала один раз и дальше ее всегда везде проговаривала. Потому что под гражданскими они понимают, они подразумевают автоматически полицейских, бывших сотрудников прокуратуры, это для них гражданские.
- Суды, прокуратура, вот это все, да?
Да, все остальные, это война – военные, а я именно мирный житель. Меня вызывают, ну нас распределяют, кто кого допрашивать. Я попадаю на допрос к женщине. Рассказываю ей свою эту маленькую историю, она мне говорит: «О, да вы вообще левый человек. Как вас вообще сюда это… – говорит, – сейчас мы с вами…»
- Тебя в ОБОПЕ допрашивала женщина, да?
Да, женщина меня допрашивала, она была в статусе полковника, и это был первый. У нее стоит вода.
Я говорю: «Можно мне воды?» Она говорит: «Да, конечно. Вы кофе хотите?» Я говорю: «Да». И я расплакалась, потому что был первый момент, когда я вот, ну чуть-чуть, да...
- Когда снова почувствовала себя хоть немного человеком?
Да, потому что тут могут разговаривать. У меня появилась, затеплилась надежда, что как-то сейчас это все решится. Она (это ее реакция на меня как бы нормальная), и она говорит: «Все». И она начинает оформлять мне документы на все, и она начинает вот это. Она пошла, распечатала вот это –билетик на фильтрацию, вырезала ножничками и пытается мне, ну, его заполнить. Тут залетает 10 или 12 человек, вот, и они говорят: «Она никуда не едет, она остается на этот». Она говорит: «Что?» – «Ну вот распоряжение». И вот я слышу уже не в первый раз это распоряжение. Вот, она дает им какие это задания, они уходят.
И она говорит: «Быстро, все что с тобой есть, скидывай прямо здесь». Все, и я так замешкалась, и она говорит: «И то, что в трусах тоже, тебя будут там дальше раздевать».
Со мной телефон, они принесли телефон этот положили мой. Положили, со мной инсулин еще эта партия, которую я никак не доставила, не смогла доставить. Со мной телефон, какие-то там что-то там сережки, что-то это и остаток денег какой-то, который есть. Я это все – карточки банковские – я это все складываю в эту сумку, я за секунду понимаю, что или да или нет, где-то все равно заберут, ну как бы все. У меня остается, я это все делаю, у меня с собой был скотч, я это все заворачиваю скотчем, она открывает сейф, закидывает все и говорит: «У тебя ничего не было. Поняла?» Я говорю: «Да». Я остаюсь, приходят эти люди, начинают заполнять какие-то другие... Я спрашиваю: «На каком основании? Почему? Кто?» – «Все, это не к нам, это не к нам. Это потом будут заниматься другие люди». Вот, эта же женщина, со мной были несколько военных девочек, которых я пофамильно как бы знаю. На них, как бы, я произвела впечатление тем, что я мирный человек и я еду на эти 30 дней, и эта женщина выходит к нам в коридор, зовет меня и говорит: «Я сейчас вас оставлю здесь на этаже, потому что там внизу, куда вас могут отвести, там ад. Вам туда не надо. Если вдруг кто-то, я – говорит – сейчас уеду, захочет вас переместить в какое-либо другое место, ты кричишь мою фамилию и говоришь, что это я вам сказала. Я сейчас всех предупрежу, если кто-то сменится, ни за что не спускайтесь вниз».
- У тебя было понимание, что там?
Нет, еще не было, я потом узнала .
- Она уехала, вы остались?
Она уехала. Она уехала – она еще раз вернулась. Она нам дала по отрезу такому марлевого полотенца. Она нам дала по кусочку мыла, она нам дала… в файл насыпала печенья, которое мы разделили между девочками. Зубную щетку. Я говорю: «Я в брекетах, так пожалуйста, это я не смогу, как бы» Она говорит: «Хорошо». Она мне дала зубную щетку, и да, зубную щетку просто. И мы остались на этих стульчиках.
- Как ты думаешь, почему она, ну вот проявила к вам такое?
Она знала, куда я еду, просто женщина, это такая вот сработала ну человечность. Она просто знала, она не может сказать, куда я еду. Она не может, ну не имеет… страх.
- Она пыталась тебе сказать?
Да, оно просто, хоть как, что ее в этом… Она как есть, люди ни Бога, ни черта не боятся, наверно, кого-то все-таки боятся. Ну что двигало? Мне важно, что это случилось с нами. Вот этот маленький, вот этот маленький задел имущества, которое я потом накапливала в этой тюремной жизни, он очень помог в первое время. И мы благодарны до сих пор за это.
- Она уехала второй раз. Вы остались на этаже, да?
Мы остались, да. Нас никто не пытался переместить, мы спокойно ходили в туалет. Мы… там была питьевая вода, и мы вот переночевали, но на стульчиках. Мы должны были вести себя так, чтоб нам не привлекать к себе внимание. Это был коридор с несколькими там закоулками, вот и мы сидели в одном из этих закоулков, и значит этот... Вот девчата военные, они были, конечно, уже понимали, или они, ну естественно, как военные они понимали, что их ждет, вот. Я же была, сказали, что до 30 дней, ну 5–10 дней и больше, и вы выйдете.
Я была на этой волне, и мне даже было стыдно себя чувствовать среди горя этих девочек. Понимала, что мне мой как бы путь, он легче однозначно. Но я очень сильно ошибалась на тот момент.
- Вы переночевали. Дальше что?
А потом дальше нас выводят утром и стоит специализированный транспорт. Я не знаю до сих пор, как он правильно называется. Ну вот это…
- Автозак?
Автозак, да. И нас заводят, и там у каждого… Потом я узнала, что это называется «стакан». Каждый садится по одному и вокруг тебя вот эта металлическая мини-камера. Мини-камера вот эта у каждого под замок, под ключ. И тебя везут уже конвоиры, ты себя чувствуешь полноценно, как бы заключенным в тюрьме. Это, конечно, шок для сознания, сама эта обстановка. Вот нас привозят в ИВС, и тут начинается просто треш – изолятор временного содержания города Донецка. Останавливается машина, на нас начинают… То есть если до этого мы сталкивались со злым юмором, с чертыханием, с матерщиной, еще с каким-то недостатком еды, пропитания, холодом, то тут просто нас встречает, ну как будто бы мы не знаю кто. Ну военные преступники.
Как преступников встречают?
И нас уже, это уже ненависть вот эта поперла, агрессия. То есть мужчин уже и прикладами это...
Нас просто подталкивают постоянно и открываются одни двери, вторые двери и звонок звенит – дверь замыкается. Второй коридор, и нас ведут по коридору, ну двор, и с двух сторон за клетками бегают туда-сюда собаки и лают. И вот этот коридор с лающими собаками, и ты понимаешь, что ты уходишь в никуда.
Просто в никуда и ну, это шок. Это, наверное, не то слово. Это…
- У тебя еще на тот момент была эта иллюзия, что ты через 5–10 дней оттуда выйдешь?
Ну я за нее держалась.
- Держалась, да?
Я за нее держалась, потому что я не позволяла себе, как бы...
- В ИВС вас привезли, вы прошли по этому коридору. Как встречают дальше? Что там?
Встречают. Встречают как очень жестко, и тут я столкнулась с женщинами-конвоирами, которые ни в какое сравнение по жестокости не сравнятся с мужчинами-конвоирами. Это такая ненависть, ее можно сравнить только с садистическим советским гинекологом. Вот тебя заводят в раздевалку, ну в помещение, где стоит стол, стоит табуретка, и тебе говорят: «Раздевайся». Я на тот момент в лыжных штанах, ну как я по Мариуполю… на мне вся одежда очень многослойная одежда. Я начинаю раздеваться – одну, на мне до сих пор остается одна поясная сумка, в которой есть 1300 гривен, в которой есть еще один спрятанный телефон, на котором были фотографии нас в КПЗ, которые я делала в СИЗО. Ну как бы, я понимала, что нужно какие-то любые документы. Я понимала, что не дают документов. Я понимала, что нужно заботиться о том, что когда мы здесь, я не знаю, на сколько мы здесь. То есть себя с правовой точки зрения, то есть где я была? Была ли я там вообще на самом деле. Я с первого дня начинаю у всех девочек спрашивать: твоя фамилия? Кто ты? Что ты? Чтобы потом цепляться и чтобы мы могли стать свидетелями друг у друга, вот этих вещей.
- Вас заводят кабинет – стол, стул. Раздевайтесь.
В кабинет. Я одна и она говорит: «Раздевайся». Я даю ей все, а у меня...
- Сколько лет ей было?
Я вам сейчас точно скажу, потому что я женщина, 52 года, вот. Она жестко срывает с меня куртку, у меня куртка «Кельвин Кляйн», у меня в Нью-Йорке купленная обувь «Майкл Корс», мои любимые, вот и она безжалостно разрезает, вытягивает эти шнурки. Я вообще в шоке, говорю: «Я сама могу вытащить». Говорит: «Не надо. Отдай. Молчать». Это все – «сука-мука», вот эти вещи, все это вырывается, тут же я вижу шнурки, которые висят на чем-то, или шнурки, которые кто-то вышел и в руках держит.
Но ее так раздражает, что я хорошо одета, у меня на голове итальянский платок, она говорит: «Снимай». Так смотрит на него и так в сторону его сразу складывает себе.
У меня с собой еще кусок хамона, который нам было нечем разрезать.
- Куда ты его спрятала?
Ну да, кусочек вот такой запаянный был, такой брикетик. Потому, что я думала, что точно так же я поняла, что еды нигде нет и что-то это... Вот, говорю, у меня был еще с собой, это многие девчата потом вспомнят – семена чиа, я всех кормила, водой заливала и говорю: «Девочки, надо кушать, это витамины». Вот конвоир смотрит и говорит: «Это что?». До определенного момента раздевания еще и мужчина присутствовал, и он говорит: «Что это? Это что – говорит – мак?» Я говорю: «Ага, это семена чиа». – «Я где-то слышал». И увлекшись этой, он просто с ней уходит, вот. И она начинает меня раздевать, она офигевает сколько у меня на себе, удивляется, да сколько у меня на себе одежды. Оно это все прощупывается, все эти стельки вытаскиваются из обуви.
И все, мне нужно раздеться догола, и мне нужно, как в тюрьме, три раза присесть, для того чтобы в каких-то моих отверстиях физиологических не было что-то спрятано. Это самое, когда возле тебя человек с перчатками, и ты вот это все…
Это ужас. Холодно, ты голый. Это верхняя степень унижения, и ты не можешь сказать, что вы не имеете права делать. То есть вообще, что у меня есть какие-то права и что я человек 2022 года, человек планеты.
Что это такое в это же время может существовать где-то, и еще под этим иметь какие-то официальные… какие-то погоны, какой-то статус. Это не пираты, это не какие-то неандертальцы. Это вот люди, разговаривающие со мной на одном языке. И они со мной делают это. Есть полное понимание, что ты попал в зазеркалье, в страну абсурда, ты провалился в какую-то временнýю петлю, я не знаю. То есть ощущение, что ты все, ты в беде полнейшей. Это жесткость. Ну, у меня были носки с собой, она эти носки берет и говорит: «О!» Я говорю: «Ну это носки, можно мне носки с собой хотя бы?» То есть она, как бы перебирая, обсмотрела меня, удивляется – со мной еще какой-то пакет, начинает пакет это перебирать. И вот это движение – она, носки. О… разрывает их и говорит: «Тебе и одного хватит». Вот это было, ну просто, это уже было, вообще было… У меня с собой зубная щетка, у меня с собой, а этого ничего нельзя. Она забирает все и говорит, что мне это где-то там потом дадут. Вот, и меня ведут в камеру.
- Большая камера?
Да, камера большая, камера 18 квадратных метров. Мы потом научились все это мерить.
- Сколько вас там было?
Нас на тот момент… я зашла – я была четвертая.
- Сколько шконок, я уже тоже знаю?
Три, три шконки, но четыре матраса, одни матрас на полу лежал. Единственным достоинством ИВС на тот момент было то, что это было первое теплое место за много дней. Там топилось, и вот тепло. Я зашла, и девушки сразу кинулись опять: кто ты, что ты? Рассказывай. Но девушки, которые в камере, они себя ведут более напряженно, чем я, потому что они не знают, кто я, и они боятся контактировать со мной.
- Кем они были?
Была Тайра, мы с Юлечкой были. Была Юля Матвеева – судья, которая до сих пор там. Была мама Андреева, «азовца», она была, на тот момент она 32-й день ждала освобождения. Ну тоже никто к ней не приходил, ничего не объявлял.
- А за что взяли маму?
Она просто мама «азовца». Такие тоже там были. Они ждали, чтобы он за ней приехал. Тайра была только что избитая и после допросов. Вот, ну мы поделились своими историями, девочки меня положили к себе, мы подвинулись там как бы все. И мы… они мне быстренько рассказывают порядок. Нам приносят еду. Еда во всех этих местах – это отдельная история. Кипятка нигде нет, то есть горячей… возможность получить горячей воды либо чая, что-то – этого нет. И мне говорят, у тебя… А девчата уже без курева, без этого… и они меня начинают закидывать вопросами. И я помню, я точно так же себя вела в ДИЗО, вот. «Что у тебя с собой?» Я говорю: «У меня было то». А она, Юля, стучит и говорит: «У нее были с собой лекарства, все». Сейчас посмотрю, и она как бы добивается, как бы рассказывает мне, что я могу эти вещи требовать, чтобы мне их тут давали. То есть я должна стучатся и говорить: «Мне нужна прокладка». И мне из моих же прокладок, типа, могут дать прокладку, вот. Ну на себе, я все-таки там делила мои платки и все остальное. У них все это стояло на столе, и я понимала: вот этот пакет, который у меня, не разрешают с собой занести. Я прямо со стола себе смахнула сигареты, шампунь, и все-таки зубную щетку в камеру, я там пакет взяла – и все. И когда она там на досмотре женщина-конвоир вышла, я у мужчины… Конвоиру, который зашел меня охранять, пока она там примет какие-то решения, говорю: «Можно я в мусорке достану батарею от телефона?» Он говорит: «В смысли?» Ну, пока он меня слушал, я ему объясняла и доставала из мусорки вот эти детали этого телефона и сам телефон, который она выкинула. И я его тоже с собой забрала в ИВС. Я девочкам говорю, у меня… А я не курила. Говорю: «Девочки, есть сигареты». И Юля Паевская говорит: «А-а-а-а! Все мы живем».
- Сколько ты просидела в одной камере с Тайрой?
Две ночи. Две ночи, и потом нас этапировали. Они мне объяснили, что если тебя отсюда заберут, то значит, ты поедешь на Еленовку. Девчата ориентировались в этом пространстве. Или же если тебя оставят, то еще есть вариант, что ты отсюда выйдешь. Но сам ИВС – это помещение, там тепло, чисто. Еда отвратительная, ну просто не еда, ну самый… у них нет ни у кого ни ощущения времени нет, 24/7 горит свет, постоянно шумят конвоиры.
- Как вы спали?
Это… Ну я долго привыкала, то есть после КПЗ, конечно, я уснула, просто это был сон такого забытья, вот, а потом это была большая проблема, потому что у нас получается вот 100 дней я сплю при свете, и зрение как бы пропадает, и сам биоритм, все естественное, об этом не может идти никакой речи. В ИВС заклеены окна, ты не видишь солнечного света, ты вообще в таком пространстве.
- А вот тот телефон, который ты забрала с собой?
Я его довезла до Еленовки, и очень долго он был в камере хранения. Но уже при выходе мне просто вообще, в принципе, не отдали моих личных вещей никаких с собой.
- А вот те вещи, которые ты замотала скотчем и отдала женщине в ОБОПЕ?
Да-да я их получила.
- К этому мы потом прейдем. Окей, вы две ночи просидели в камере в ИВС с Тайрой, с Юлей, с мамой «азовца». Этапирование потом. Ты шла по этапу вместе с ними или ты шла отдельно?
Нет, я шла отдельно. Они еще долго там оставались. Да-да. От Юли они требовали интервью, от Паевской, вот что-то они пытались, чтобы она призвала к кому-то, к чему-то «азовцев». Юля им объясняла, что вообще «не в моей компетенции», ну всячески уходила от того, как бы от этих вещей. Вот, и нас, как бы вызывают утром, открывается камера, называют твою фамилию. Ты хватаешь быстро все, что у тебя есть, и девочки этот… я отливаю им быстро шампунь, оставляю им сигареты. Ну делю все, что у меня там, и еду оставляю, это какие-то вещи оставляю, потому что у меня все равно все это заберут, но не поделиться я как бы не могу просто, в принципе. И меня садят опять в такую же, как автозак, и везут, очень долго куда-то везут.
- Из ИВС в Еленовку, да?
В Еленовку, да. Вот приезжаем в Еленовку, с нами есть мужчины, ну мы женщины. Нас было две, кого из ИВС уже везли женщин, вот. Одна была бывший бухгалтер Нацгвардии, ну та, которая работала бухгалтером в Нацгвардии, и я – мирный человек, вот. И были мужчины, мужчин встречали особенным способом.
- Это каким?
Мужчин сразу заводили, возле машины их как бы, как правильно это у них называется, досмотр делали. Но каждое прикосновение – это был удар, каждое, абсолютно по всем местам.
Потом нас вели уже на территорию какого-то помещения. Я впоследствии узнала, что это называется ДИЗО, либо яма. Это отдельно стоящее помещение на территории колонии. Колония вся… Территория колонии состоит из бараков, технических помещений промзоны и ДИЗО. То есть в обычное время, когда колония эксплуатировалась по прямому назначению, то есть люди, которые нарушили порядок, их перемещают в ДИЗО. То есть там более жестко – тюрьма внутри тюрьмы, вот. Она называлась «яма», то есть ты попал.
- За что вас туда?
На тот момент это было просто, ну по их плану, сначала они всех селили туда, оттуда уже шерстили кого куда. Бараки не были готовы, это все было заброшено, это помещение.
- Серега, мне рассказывал, что они даже ремонтировали барак за свой счет?
Да-да, абсолютно верно. То есть это было абсолютно заброшенное, в 10-ом году были документы на то, что это признано аварийным и подлежит, ну как бы, от него отказываются, как бы списали. В каком-то году они его там взяли и начали его, грубо говоря, сторожить. Но мы были одни из первых людей, кто вообще туда попал.
То есть абсолютно заброшенные помещения, абсолютно непригодные, ни содержания никого, даже собак, не говоря уже о людях.
- Сколько вас было в ДИЗО и какая там площадь?
ДИЗО состоит из двух этажей. На первом этаже находится девять камер, и на втором этаже находится всего девятнадцать камер, девять и десять камер. Первый этаж – девять камер, второй этаж – десять камер.
- На каком ты была?
Я была сначала на первом этаже, и потом на втором этаже, и потом снова на первом этаже.
- Сколько дней ты там была?
Все вместе 100 дней я пробыла.
- Все дни ты пробыла там?
Все дни. Нет, я пробыла…
- Почему? Некоторые, насколько я знаю, могли там выйти на более облегченную…
Да. У меня был прецедент, когда мне предложили. Пришел к нам замначальника тюрьмы, когда мы были на прогулке, ну на одной из наших первых прогулок. Для этого туда и вывели на прогулку. Вот и к нам подошел замначальника тюрьмы и сказал: «У тебя есть родственники в Донецке либо в Макеевке. Ну, а с кем ты можешь связаться, кто тут рядом?» Я не моргнула глазом сказала: «Да». Хотя у меня не было никого. Он говорит: «Тогда к вам подойдет завхоз». К нам через время пришла девушка, которая была тоже заключенной, она сразу зашла и сказала: «Девочки, я такая же, как вы, только я нахожусь в другом месте». Мы находимся… Нас 18 девочек, мы содержимся на санчасти, то есть бывшее помещение санчасти они сделали женским, то есть один этаж они сделали как бы женским бараком, вот. Она говорит: «У нас, мы там можем гулять, ходить, нас не конвоируют, мы просто общая территория на замке. Нам приносят еду, как и всем, но только нам, такую же, как и всем, просто нам ее приносят. У нас есть кипятильник, горячая вода, унитаз и душ». Я говорю: «Хорошо, что для этого надо». Она говорит: «Колония хочет, чтобы ваши родственники привезли стройматериалы. Они дадут список, и вы должны привезти, только тогда вас заберут туда». Я говорю: «Ты можешь сказать, все же всего боятся,». И на этом получается так, что в женском бараке были девушки, основная масса 90% – это были бывшие полицейские. К ним, полицейским, было ну самое лояльное отношение. Они не подвергались ни мужчины, ни женщины никаким унижениям, избиениям, вот. И я говорю: «Скажи, пожалуйста, у тебя есть телефон?» – «Какой телефон?» Я говорю: «Я тебе дам телефон, только ты меня отсюда забери». Вот, и к нам подходят и называют наши четыре фамилии.
Я сказала, что могу, если мне дадите хоть какую-то связь, я через родственникам сообщу, я покрою расходы на любое количество женщин. Я найду эти деньги. Дайте мне только, но пусть женщины выйдут».
Нас шесть человек было. «Заберите нас шестерых туда». Нас забирают четверых на эту санчасть. Мы приходим на санчасть, там просто комната и отдельно сваренные металлические части кроватей – вот мы их сами себе собираем. У этих 18 девушек уже налажена жизнь, они на матрасах, на подушках, с одеялами, у них есть еда. Родственники уже знают, где они. У них передачки, сосиски, печенье, конфеты, все на свете.
Мы приходим, как четыре сироты. Вот девушки нас встречают и говорят, девушки в основном молодые, 25–32 года, Говорят: «Да-да, да мы с вами всем поделимся, мы вас поддержим. Все 100% не переживайте, вы в относительно в лучших условиях». На деле оказывается, что мы собрали себе кровати, и кровати металлические с металлическими сетками, и мы опять мерзнем. Холодно так же, как и везде. Девушки нам дают какой-то дуйчик, который у них есть. Вот, у них есть еще там, то есть у них в комнате тепло. Я начинаю стучаться к девочкам, возвращаюсь я на кухню, на этой кухне уже ничего нет, все продукты забраны, ни одной тарелки. Молодежь – вот они подсуетились и подумали, чё мы будем делится, вот.
То есть внутри тюрьмы между людьми происходили тоже такие вещи, вот. Я прошу: «Девочки, дайте нам кипятильник, мы хотя бы горячей воды чтоб мы могли попить. Я вас больше ничего не прошу».
И вот так я начинаю настойчиво с ними разговаривать и им, видать, это не до вподоби, вот. И приходит раз замначальника и говорит: «Вы там связались?» Я говорю: «Вы скажите, через кого связаться, дайте мне телефон, вот мои контакты. Ла-ла-ла ». Он говорит: «Это не ко мне, это вот ваш как бы… называет девушку, только через нее все». И девчонки, ну как бы тормозят эти дела, им хорошо тем, кто есть.
- Не понравились вы им, короче, да?
Да-да. Вот, я просто была мирная, и они меня сливают обратно на ДИЗО. Они говорят что-то такое про меня, что потом мне «помогает» все это время. Девочки думали, ничего со мной не случится, я 30 дней посижу и выйду. А вот это вот момент, он послужил тоже в ту копилку, как бы моего как бы длительного содержания в этих жестких условиях.
- Много ли людей менялось рядом с тобой за эти более 100 дней, пока ты там была?
Внутри камеры, с которыми я была, я была, два, ну порядка 10 человек, которые мимо меня прошли, с которыми я сидела длительное время. И еще 6-7 человек, с которыми на один-два дня заходили, и их снова куда-то перемещали. Вот, и были мы на прогулках. Я там встретила потом девушек, с которыми я была в Мангуше. Я встретила… туда привезли девушек, которые были в Докучаевске.
- То есть, видимо, не выбрался никто, вы все попали в одну?
Да-да, но они… им было без шансов, они все военнослужащие. То есть я была одна с гражданским статусом, с этим мирным статусом. Все остальные были либо вольнонаемные, либо по контракту.
- Как с едой было в Еленовке?
Ну, первые пятнадцать дней это был кошмар, они не были готовы сами к тому, что у них будет столько людей. С водой проблемы были до последнего, наверное, ну до середины июня. С едой – нас могли не кормить.
- С водой проблемы. Это сколько раз в день тебе давали воды и сколько?
Расчет воды питьевой шел 150 грамм – 250 грамм воды питьевой в день на человека.
- В день? Это стакан воды максимум вдень.
Стакан воды. Да-да, это первое время было очень проблематично.
- Еда?
Да, еда в первые две-три недели нас могли какой-то день вообще ничем не покормить, вот. Было достаточное количество хлеба, это была четверть круглой буханки серого хлеба.
- Все рассказывают о том, что вот что-что, а это там было.
Да-да, но тоже до определенного момента, когда...
- В Еленовке мукомольный комбинат, насколько мне известно.
Да, потом наступил момент, когда нам давали 1/16 – я так считала – 600 грамм. Это около 45 грамм хлеба мы получали на обед, завтрак и ужин, то есть 120–130 грамм хлеба в день мы получали, и это тоже был промежуток порядка 15 дней, был такой.
- По отоплению как?
Отопления нет, его там не существует.
- Вообще?
Да, единственным был момент, когда они сами замерзали, тогда они включали такие калориферы старого образца, ну типа трамвайного, не знаю, ну как труба со спиралью. Они включали этот калорифер, но двери они не закрывали, поэтому это все выдувалось. Но самое страшное было во всем этом – то есть нас это не грело, но это горячий воздух, он нагнетался, и он поднимался вверх.
- И он конденсат давал, наверное, да?
Нет-нет, между этажами перекрытие составляло, таким образом было устроено, что это перекрыто металлическими тросами. Ну вот как? Балки, не труба, а именно вот как, как же…. Сейчас я скажу: арматура. Арматура была такого диаметра порядка там 6-7 см, и посредине вот этого вот частокола, вот это вот наложено перекрытия, была наварена металлическая стол – дорожка, покрытая резиновым покрытием.
И вот этот горячий воздух сквозь вот эти сквозные сообщающиеся этажи поднимался вверх, а там, на втором этаже были ребята, мальчики были, и их в каждой камере… камера, которая была рассчитана на восьмерых – на шестерых, их там было квадратов, например, 20-23квадрата, их там было по 55 человек.
И этот горячий воздух туда поднимался, и им не открывали двери, у них было закрыто вот это маленькое окошко, называющееся «кормушкой». Вот, и если мы, девочки (разносили воду работники, ну эти же заключенные), и если нам шестерым девочкам мальчики всегда старались принести воды, рискуя собой. Наши мальчики работали на… кололи дрова, готовили на полевой кухне, то есть еду готовили на кострах и ночью закидывали нам луковицу, или ночью закидывали нам какой-то стаканчик, ставили: «Девочки, девочки быстро-быстро кто-нибудь». Час-два ночи – какой-то кусочек соли, какой-то, вот что-то где-то наколупали что-то… Вот и они нам старались это дать, и водичка. То на второй этаж, к пацанам, где были военные, им даже не разрешали заходить, и там ребята были без воды. Вот они могли быть без воды, по два-три дня они могли быть без воды.
- И стоя, да?
Стоя, да. И этот жар, и они кричали, да. Единственное, что нам в стену, как бы, мы учились немножко.
- Хотел сказать, они кричали что?
Они кричали, кричали и просили открыть хотя бы вот это окошко – «кормушку». Они кричали о том, стучались, потому что есть возможность открыть металлическую цельную дверь, и за ней существует решетка, чтобы хотя бы подышать.
И мы учились, были… была целая камера, отдельно сидело там 40 человек людей, которые были бывшие полицейские, и кто-то из них, когда-то работал в таких заведениях, и они нас научили, что можно стучать и что-то звать, потому что боялись люди, вообще не... Потому что мужчины все, кто приезжал, они проходили, ну как бы их «прописывали» всех побоями. И закидывали, закидывали людей. И были в камере люди, которые (как же так!) готовы были что-то требовать. Но остальная камера могла бояться, говоря: «Не стучи, не трожь, потому что сейчас кого-то побьют».
- Были ли, вот то, что ты видела, ты слышала, какие-то жесткие допросы, пока вы были там? Пытки, было?
Да, мы находились в камере очень долго, и один момент был, когда я, на первом этаже когда я находилась, моя камера была напротив входа. И возле моей камеры останавливались все конвоиры, и они между собой потом это все переобсуждали. То есть слышны были разговоры, и слышны были… тут же были ребят, и тут же они кричали, и все это было слышно дословно. Когда мы поднялись на второй этаж, так сложилось, что нас там было всего две камеры женщин. Одну камеру расформировали-раскидали – девочкам выдвинули обвинения, и их снова спустили вниз, потому что мы для них были, как им было удобно, чтобы эти были здесь, чтобы их никого не искать, и неважно, вот эти были здесь. Вот у него в одном списке есть 50 человек, вот ему удобно, чтобы все эти 50 человек были в одном месте. Мне везло в том, что моя группа была немногочисленная, и я была в камере, где было максимум 7 человек – 5 человек. Вот, у нас из камеры еще потом забрали девочек, которые были военными, две военные. Мы остались втроем.
- А куда их забрали? Вот их забрали.
Их забирают на первый этаж, им выдвигают обвинения, и на первом этаже в какой-то промежуток времени содержатся только люди, у которых есть обвинения в терроризме и которым принесли протокол, что им «ходить» от 20 до 30 лет. А на втором этаже сидят еще люди, которые еще ждут этого решения, вот. Ну, сюда привозят, на второй этаж привозят военных, и стали привозить «азовцев». И тогда у нас появились еще два конвоира, которых мы подразумеваем, что их специально откуда-то вызвали из какого-то строгого режима. И девочки, которые были чуть-чуть раньше меня, узнают в них тех людей, которые были тут с самого начала, то есть у них прошла какая-то ротация, и вот они вернулись.
Что они делают?
Они могут просто вытащить, открыть двери позвать, отвести в торец коридора, там комната пустая, вот и начать жестоко избивать.
Просто человек кричит, и кричит: «Остановись!» И кричит: «Не надо!» И потом он кричит: «Мама!» Потом он просто плачет. И это все ты слышишь, и слышишь эти удары, и слышишь этот…
- Кого они чаще выводили?
3057 и «Азов», ну Нацгвардию и «Азов». Это был их основной приоритет.
- А морпехи, нет?
Нет.
- Морпехов нет? 3057 и Азов, да?
Вот, как-то морпехи у них… они рыкали, и они этот, ну то, что я знаю, насколько я это… Могу ошибаться.
- Так били только мужчин или…
Нет, так били только мужчин. Внутри вот Еленовской колонии женщин… ну не применяли никакого насилия, кроме психологического. Запугивания там, ну такого вот психологического. Вот, конечно, издевались, что вам там сидеть, постоянно это. Ну не открыть, не погулять, никакого душа... Вот эти вещи. Конечно, без матрасов мы очень долго были, спали просто на этой деревянной как раз в самый-самый холод.
- Самый эмоциональный момент, который ты запомнила вот за эти дни там? То, что ты не забудешь никогда?
Когда мне не спалось ночью и на утро… Так была устроена моя камера, что я видела, как приходят работники, как сменяются смены, и я вижу человека, который идет на свою смену. Это жестокий, один из самых жестоких конвоиров, который вчера избил в третий раз человека, который сидит в соседней камере, в одиночке. И он идет на работу, заходит на смену, ну почему-то очень рано, минут на 40 раньше. Мы уже научились ориентироваться по солнцу, по звукам, по всему, как птицы начинаю петь. И он идет раньше, и он очень аккуратно заходит, поднимается на второй этаж. И так устроена вот эта металлическая дорожка, что если когда ты по ней просто идешь, она громыхает, но в ней есть такие ложбинки – мы этим пользовались, когда у нас была возможность, и если вот прямо перескакивать, как по минному полю, можно пройти беззвучно. Конвоиры никогда не ходили беззвучно, они всегда смело громыхали. Они… им нравилось создавать этот грохот, и когда поднимается это конвоир, и он беззвучно пытается пройти по этому… И он заглядывает в эту камеру, открывает эту кормушку, закрывает и уходит. И через 20 минут они заходят, так как они обычно заходят – стучат. Это была самая жесткая смена. Это было 6-го июня, и он будит всю зону и кричит:
«Подъем!» Начинает стучать палкой по всем камерам, то есть все происходит, как обычно, и они начинают осмотр. В каждую камеру как бы заглядывают, и они подходят и якобы в первый раз туда заглядывают, вот. И я понимаю, что это что-то значит. В конечном итого оттуда, этого человека вынесли на носилках, накрытого простыней.
- Ну, то есть ты думаешь о том, что было?
И у него… его вынесли, и он… Возле нас давались показания, давали они же показания своим вышестоящим – вот человек вскрыл себе вены. До этого его каждый раз, перед тем как заводить в камеру, его обсматривали до трусов, обшманивали все карманы.
- Ты думаешь, тогда он, видимо, да? То есть в тот момент, когда он тихо прошел, он мог зайти и...
Нет, он уже проверил результат. Он это сделал раньше. То есть всем, кого избивали, потом в конечном итого заглядывали, объясняли им, что ты понял, и что-то от них требовали.
- То есть их подталкивали к тому, чтобы они сами себе вены резали.
Ну, кого-то к правильным ответам, кого-то, к каким-то это… ну это был вот вообще, конечно. Фамилию и имя я не забуду никогда.
- Фамилию и имя того конвоира, который?
Нет.
- Того человека, который вены вскрыл, да?
Да-да.
- Это был молодой?
Это был мужчина 74-го года рождения.
- Молодой.
Высокий, молодой, красивый мужчина.
- Много ли летальных исходов ты видела, пока сидела?
Видела то, что видела, а слышала про два еще. Ну, которые это были люди раненые, которые просто не выдержали так каких-то условий.
- Ты провела там несколько месяцев. Вот как? И ты, явно это день запомнишь тоже. День, когда ты узнала, что ты выходишь на свободу. Как это было?
Это было накануне, за два дня, мне ребята, делая там, ну переписывая, ну мы только глазами с ними знаемся – Руслан Ахметов.
И у меня всегда один вопрос был в глазах. И он говорит: «Скоро». Я говорю: «Неделя, месяц?» Он мне так внизу показывает: два.
- Откуда он знал?
Ребята работали, ну были вынуждены обслуживать.
- Офицеров?
Да, и что-то такое, и это были ребята, которые не… ну как сказать, никакой информации, они тоже не могли делиться со всеми, потому что люди все эмоциональны, как бы разные и не отдают себе отчета в том, что, рассказывая кому-то то, что кто-то сказал, он выдает тех людей, которые были где-то.
- Он показал тебе два – два дня. И как ты начала жить?
Я начала жить. До этого я выходила, я же получала уже три раза надежду. Я три раза подписывала документы на новое число, вот и я научилась после первого раза не ждать ничего, потому что это очень подкашивает.
- Разочарование потом, это, наверное, очень больно?
Нет, это больше чем разочарование. Это заряд твоей батареи, которую ты накапливаешь из космоса, он просто обнуляется, и тебе нужно заново собирать силы. Поэтому, даже имея такую информацию, я понимаю, что может измениться, вот. Прямо он мне сказал, и через час может что-то измениться. Поэтому я никаким образом… я восприняла это как момент ну надежды, где-то на отдельную полочку положила эту информацию, и все. Это должно бы быть по подсчетам 4 июля 2022 года. Вот я так где-то отметила себе в голове, и все. За количество тех передвижений, которые были, за время нахождения в ДИЗО я научилась собираться за 3-4 минуты, все. Вот, ну дело в том, что я в моей жизни, и в обычной жизни меня многие люди знают как человека, у которого много своих вещей. Я люблю, чтобы у меня было все свое. Вот, при последнем переезде как бы я стала шуткой всех конвоиров, потому что у меня было своих два матраса, своих две подушки, у меня был свой стул, вот, который мне говорили:
«Его нельзя, и где ты его взяла?» Я говорила: «Заработала». И мне говорили: «Так иди отнеси туда». Я: «Конечно». И я пошла типа отнесла туда, но он всегда перемещался за мной.
Вот, и мне все время девчонки говорили: «Как ты все это сможешь?» Я говорю: «Поверьте, я все смогу». И когда, но это все по наследству друг другу оставляли, ты куда-то заходишь, ты берешь с собой все, потому что там может ничего нет. Ты тут же делишься со всеми этими делами. Вот, и когда пришел этот день, мы… это было рано утром, в районе 10 утра. Дело в том, что с утра мы не спим, нас все будят, потом нас считают, и потом у нас есть часа полтора такой тишины, когда не заняты, и мы вот в этот момент начинаем спать. Вот, и тут мы… Вот заходит человек и называет фамилию, поднимается на второй этаж и называет фамилии, и я слышу среди этих фамилий фамилию волонтеров-ребят, и я понимаю, что где-то рядом должна быть я.
Он их называет, называет, называет… Я жду, жду, жду. И он замолкает, и он им говорит: «С вещами на выход. С вещами на выход, с вещами на выход». И начинает их торопить: «Быстро-быстро». И этот как раз день, на него попадает эта самая жесткая смена. Вот единственное, что я заранее приготовила, это у меня с собой были записки от родных, номера телефонов, фамилии каких-то моих девочек, с кем я… Ну все, и мальчики передавали через нас записки. Я это все приготовила определенным образом и тоже к этому была готова. Ну, в камере, в которой я есть, девчата были ну такие перепуганные, и они требовали, чтобы я избавилась от всего от этого, вот. И они как бы продолжали, они:
«Аня, Аня сейчас тебя» – «Тихо сейчас, будет – будет, не будет. Спокойно всем», – я еще успокаиваю всех. И он закончил свой список, такой идет-идет по лестнице и говорит: «И мне будет нужна еще одна девочка». И он не называет фамилию, и я знаю, что это я.
И я начинаю быстро собираться. Проходит еще минут 15, и я с девочками быстро, ну нельзя оставить просто и сказать, что это ваше, нужно разделить, потому что, ну это потом девчата, ну это просто так начинает происходить в той жизни, и я все это распределяю – кому что, вот. Говорят: «Почему тебя не называют, тебя?» Сейчас, говорю, придут. И открывается кормушка, и девочка тоже из заключенных говорит: «Аня, Аня Ворошева. Освобождение. Домой» – «Я поняла». Она: « Ты точно поняла?» Я говорю: «Я все поняла». А она думала, она не знает, что я это уже слышала, ну как бы, что я это так интерпретировала. Я говорю: «Все». Как бы остаюсь в этой ситуации самая спокойная, потому что пока я так себе в душе, пока я не буду стоять в аэропорту европейской страны, я наверное, вряд ли себя почувствую в безопасности.
- То есть ты до сих пор себя не чувствуешь в безопасности?
Ну, в какой-то мере, да.
- Окей, ты услышала это, ты собрала вещи, ты выходишь.
Я выхожу сначала на досмотр, на жесткий досмотр, и я начинаю волноваться по поводу своей уверенности в том, что я все хорошо спрятала. На корточках сидят ребята с заложенными руками все, 18 волонтеров, я не могу их успеть посчитать, но должно быть 21. Я понимаю, что там меньше чем 21. Ну это так мысли, мысли, вот. И он говорит: «Так, иди сюда с вещами». Он удивляется, сколько у меня много вещей, а у меня с собой зимняя куртка, все мои зимние вещи, и я их сознательно все с собой тяну, чтоб во всем этом… Да-да, до этого было написано кучу рецептов, молитвы, еще что-то, я распихивала по всем карманам. И он начинает досматривать, говорит: «Я в твоих вещах, такая есть брезгливость, я не буду. Давай, мне подавай». И он как бы ощупывает все и говорит : «О, это что?». Я говорю: «Ой, рецепт» – «Вт ты дура, рецепты еще пишешь». Ну я: «Чем заниматься?» – «Это, что?» – «Молитва». Ну и на пятой вещи он устает. Еще что-то он смотрит, еще что-то он смотрит, и на кого-то он отвлекается. Я способом тем же, который я проработала в ИВС…
- В Мангуше?
Да, это в Донецке, в ИВС на досмотре, да я тем же способом что-то куда-то перекидываю все что нужно. Он устает, ну он просмотрел все, ну как бы это, и меня садят на стул, как бы не так, как ребят, садят на стул – сиди здесь. Меня зовут подписать бумаги, один из самых лояльных работников – замначальника, один из замначальников, говорит: «Читай, чтоб правильно было, читай чтоб фамилия, имя, отчество. Читай, я прошу потом не будет, у нас один экземпляр с тобой. Ты не можешь ошибиться, читай». Я проверяю все по буквам документ, в котором написано, что 6 июня я задержана.
- Июня?
Июня, а документ на освобождение подписан 14 июня.
- Тебя продержали всего чуть-чуть, да?
Да, а выходим мы 4 июля, и я понимаю, что все, как обычно. И у меня встает в голове предыдущая история. У нас девушку освобождали, вручали ее личные вещи, все на свете, она доходила до предпоследнего коридора.
- И ее возвращали назад?
Ее садили и возвращали в качестве военнопленной. И вот эта нестыковка в документах, она меня все равно, ну я еще себе не разрешаю радоваться.
- Но тебя же выпустили дальше, да? То есть, может быть, она эти документы не подписала?
Она все там, вот история.
- Все подписала, да?
Да подписала.
- А почему ее не выпустили?
Ну, так ее выпустили до определенного, ну там есть как двойные ворота.
Первые ворота она прошла, а за вторыми воротами ее ждал бобик, куда ее посадили и увезли на гауптвахту и оттуда вернули снова в ДИЗО, только в качестве военнопленной заново задержанной.
- То есть по тем документам ее освободили, да?
Да-да, да.
- И она что первое сделала еще?
Был такой прецедент. То есть того момента… да-да, что она и не была. Нет нигде следов, что ты был задержан до этого. Нету этих информационных следов, поэтому только выбравшись за территорию и увидев волонтеров, Кристину, и увидев, которые нас встречают, я только тогда поняла, что мы…
- Какие были ощущения?
Ветер. Солнце и воздух. Вот именно я поняла в полной мере вот это выражение – воздух свободы, вот это выражение мне стало теперь физически… я понимаю, что это воздух свободы.
- Что ты думаешь делать дальше?
Что я думаю делать дальше? Я думаю дальше в первую очередь о каком-то своем материальном положении, потому что мне нужно это все каким-то образом, все покупки микроавтобусов и всего остального оставили финансовый след, дыру в моем бюджете, вот.
А по большому счету, конечно, я бы хотела остаться социально активным человеком среди все равно поля помощи, либо женщин и по защите прав женщин где-то себя вижу, потому что это нужно.
Ну в какой-то вот общественной организации я себя вижу. Если получится профессионально иметь, по своей профессии я дизайнер и профессиональный флорист. Я тоже человек, имеющий уникальный опыт.
- У тебя есть опыт резать сыр кредитной карточкой.
Да-да, я могу, мне нужно запатентовать консервный ножик.
- Остекление автомобилей.
Рационализатором великим я себя вижу, но конечно же, я хотела бы продолжать помогать людям, потому что это на самом деле по большому счету, это…
- Я пропустил за все интервью и часто об этом думал, но не хотел тебя прерывать. Мама где?
Мама… Уже будучи в ДИЗО, я умудрилась передать записку, а мне умудрились передать ответ, и я 2 мая узнала о том, что моя мама выехала.
- Выехала, да?
Да, и для меня это было большим, ну как бы большой помощью знания, что мои в безопасности.
- Слава Богу. Слушай, я думаю, что тебе нужно несколько месяцев, месяц минимум для того, чтоб хоть как-то попытаться забыть, научиться спать с выключенными лампочками.
Да, это оказалось. Я сплю сейчас, вот я буквально сегодня, летом. То есть там все время нужно было себя ограждать от этой грязи, то есть гигиены вопрос он очень острый, вся эта вошкотня… Были свои личные вещи, которые я там стирала и накрывала, ну как бы все время что-то одно стирать, ну умудрятся стирать. И все время, что соприкасалось лицо с чем-то чистым, укрываться только чем-то чистим, через какой-то слой чего-то, вот. И появилась привычка – когда ты спишь и накрываешь лицо каким-то текстильным, чем то-мягким, чтоб ты мог спать. Вот я пока, я в Запорожье, я сплю так.
- До сих пор, да?
- Можно купить вот эти очки для сна.
Я раньше никогда не понимала, что это, я думаю. Спасибо за подсказку. Я думаю, что вот это может, что-то тактильное такое.
- Дай Бог, чтобы ты все плохое, чтобы ты все забыла. Я верю, я уверен, что такие мужественные люди, как ты, они найдут применение в этой жизни именно в помощи, да, другим людям, потому что кто-то ломается, кого-то ломает вот эта вся война.
Кого-то ломает блокада, кого-то ломает неизвестность.
Люди ломаются, и им нужны стержни, и вот такие стержни, как ты, такие стержни, как те ребята, которых выпустили из плена, то есть это люди, которые по зову сердца ехали, рискуя жизнью, и чуть эту жизнь не потеряли там. Я верю, что наше общество, оно вот как раз на этих людях оно станет лучше, я верю, что там через несколько месяцев мы с тобой где-то встретимся, запишем интервью еще раз. Оно уже новым будет. Ты расскажешь мне о том, как ты помогаешь людям, какие навыки тебе пригодились, какие ты забыла вообще. То есть ну я думаю, что мы еще будем видеться.
У меня есть одна ремарка такая, что 20, перед выездом из Запорожья я узнала, что мама выехала из Мариуполя, и у меня была возможность не ехать туда. Я не знала, что она добралась, что она выехала.
- То есть ты знала, что она выехала?
Ее уже дома нет.
- Добралась ли?
Да, ну я знала, что в город мне за ней возвращаться не надо. Я знала, что она где-то по пути в Мангуш уже, и мне сестра звонит и говорит: «Аня, ну остановись, ну почему ты все время что-то для других делаешь? Ты нам нужна здесь, ты нужна дочери. Остановись».
- Не остановилась.
Я переспала с этой мыслю, я на следующий день перезвонила и сказала, говорю: «Ты знаешь, сестра, я пообещала ребятам быть с ними. Я это такое завернула все это, и меня там ждут люди. И я не смогу спать с чистой совестью, я пообещала, я должна сделать. Это часть меня». И я поехала.
При цитировании истории ссылка на первоисточник — Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова — является обязательной в виде:
Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/